КАЗАНДАЛЬ часть 3
Путь с Востока на Северо-Запад, или как у змея две головы, так и у человека два голоса
ПОВЕСТЬ
«Чтобы не уйти — иногда нужно уехать»
#писательизмосквы
Путь с Востока на Северо-Запад, или как у змея две головы, так и у человека два голоса
ПОВЕСТЬ
«Чтобы не уйти — иногда нужно уехать»
#писательизмосквы

КАЗАНДАЛЬ повесть часть 3

ПУЧЕЖ
Волга была широкой.
Не величественной. Не зыбкой.
Просто — как если бы забвение решило принять форму реки.
Берег — пуст. Ни разрушения, ни заботы.
Просто как будто все вышли на минуту…
и задержались лет на семьдесят.
Royal Enfield остановился сам.
Без совета. Без причины.
Писатель не дернулся. Просто снял перчатку —
как будто хотел проверить, есть ли ещё в пальцах смысл движения.
— Тут ничего нет, —
сказал Байкер.
Тихо. Без колкости.
— Даже мысли звучат в холостую.
— А может, именно это и есть память, —
ответил Писатель.
— Когда уже ничего не просит быть услышанным.
Говорят, под Пучежем — старая кладка.
Камень к камню. След за следом.
Не мост. Не тропа. Просто — путь.
Когда-то по ней ходили. Без парада.
Просто — из дома в дом.
Потом пришла вода.
Не бурно. Не насильно.
Просто раз — и поднялась.
Кладку не убрали.
Не закопали.
Просто оставили под гладью.
Как если бы сказали:
«Ты теперь — тень. Но нам с тобой всё равно жить».
Иногда, говорят, под утро,
когда ветер ещё сомневается,
а солнце не определилось,
вода становится тонкой.
И тогда видно: под ней — линия.
Как рубец. Как строка, не дописанная, но понятая.
Это не дорога, по которой ты пойдёшь.
Это — та, на которую когда-то не ступил.
Писатель сел на камень.
Не как на возвышение.
Скорее — как на признание.
Он не вспоминал. Он узнавал.
Этот изгиб. Этот запах.
Этот ритм под кожей, который молчит,
но всё равно стучит в рёбра.
— Вижу, вспомнил, —
сказал Байкер.
Без сочувствия. Без издёвки.
С тем уважением, которое говорят молча.
Он не сел. Не мешал.
Просто остался рядом.
Как человек, который знает:
если подойти ближе — можно сорвать тишину.
Писатель смотрел в воду.
Отражение ничего не показывало.
Но внутри — что-то встало в рост.
Как память, которая больше не прячется в снах.
— Был у нас один, —
сказал Байкер, глядя себе под ноги.
— Приезжал туда каждый год. Один и тот же день.
— Там когда-то был мост.
Деревянный. Щелевой.
Если смотришь вниз — видно слишком многое.
— Мост снесли.
А он всё равно приезжал.
Останавливался. Заводил мотор. Тут же глушил.
Снимал шлем. Снимал перчатки.
Смотрел. Молчал.
— И говорил только одно:
«Река плывёт. А я стою.
Но оба — уже не там, где были».
— Потом съезжал вперёд. На метр.
И стоял ещё сорок минут.
Как будто метр — это уже движение.
Но безопасное.
— Считал, что двигаться надо.
Но не обязательно — далеко.
Писатель усмехнулся.
Нежно. Почти грустно.
— Хорошая байка, — сказал он.
— Надо куда-нибудь не записать.
Молчали.
Не из вежливости.
Из равенства.
Иногда молчание — это не пауза.
Это совместное дыхание, в котором никто не дышит громче.
Писатель остался.
Байкер встал.
Посмотрел на Волгу.
Не с тоской. С уважением.
Завёл мотоцикл.
Без резкости.
Без сцены.
Писатель ещё немного сидел.
Как будто хотел, чтобы в нём совпало —
то, что не совпадало годами.
Он знал: он не выбрал тогда.
Но сегодня — хотя бы подошёл.
Он тронулся. Мягко.
Royal Enfield отозвался не рывком, а пониманием.
Байкер не спросил, поехали ли.
Не кивнул. Не подмигнул.
Просто оказался рядом.
Иногда дорога не возвращается.
Она просто остаётся под водой.
И, если ты однажды
встал у её берега
и не отвернулся —
этого уже достаточно.
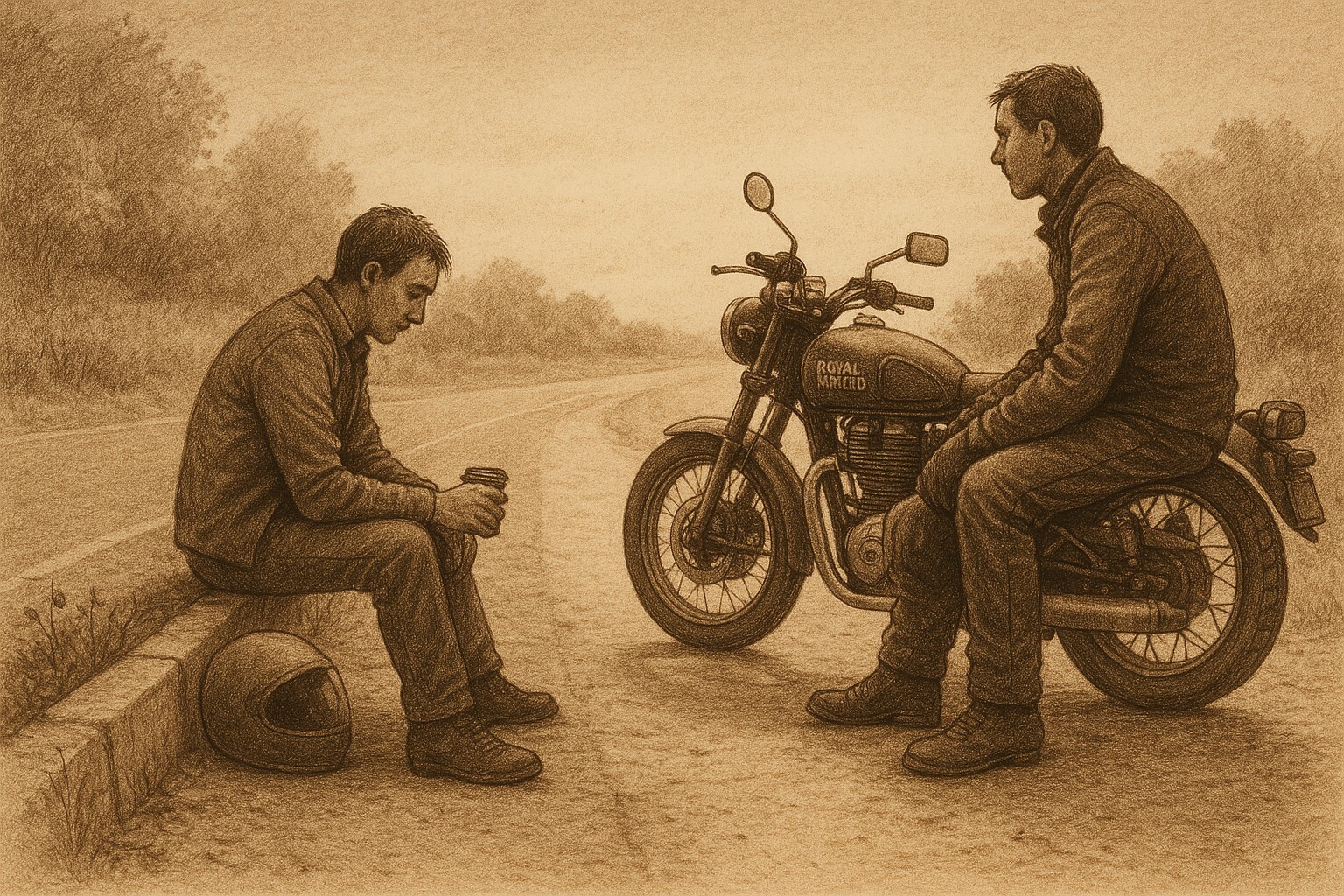
…
Полдень был неярким, но тяжелым.
Как разговор, в котором никто не говорит первым.
Асфальт прогревался медленно.
Тень от мотоцикла — короткая, как пауза после ненужного вопроса.
Royal Enfield стоял у края дороги, будто ждал не команды, а смысла.
Писатель сидел на бордюре.
Шлем лежал рядом. Кофе остывал в ладони.
Ни движения. Ни мыслей. Ни желания.
— Может, и хватит, —
сказал он.
Не вслух. Но голос всё же вышел.
Не в мотоцикл. Не в Байкера.
В пространство.
Как бросают мелкую монету — не чтобы купить, а чтобы проверить: звук будет?
Байкер не ответил.
Даже внутри.
Минуту — тишина. Потом две.
Потом он всё-таки подошёл.
Снял перчатку. Присел рядом.
Не глядя. Не торопясь.
— Так тоже можно, —
сказал он.
И замолчал.
Не как согласие.
Как знание, что иногда двигаться — это и значит остаться.
Писатель не кивнул.
И не поднялся.
Просто сидел.
Как будто хотел понять:
если всё равно всё — всё,
то, что тогда останется?
Потом он встал.
Не резко. Не уверенно.
Просто — уже не мог сидеть.
Завёл мотор. Не с первого раза.
Но без злости.
Байкер сел следом.
Медленно. Почти буднично.
Когда тронулись, Писатель не сказал: «Я передумал».
А Байкер не спросил: «Ты готов?»
Уже на ходу, между переключением передач, он бросил негромко:
— Это уже движение.
Даже если ты ехал не куда — а откуда.
Иногда, чтобы не сойти с пути,
достаточно не сделать вид,
что всё равно.

ЮРЬЕВЕЦ
Юрьевец не начинается.
Он проявляется.
Ты не въезжаешь — ты оказываешься внутри.
Как в плёнке, которую кто-то уже отснял,
а ты — просто попал в экспозицию.
Асфальт под колёсами чуть хрустит,
не от ям,
а как будто у дороги — память на звук.
Город не встречает.
Он, как забытая сцена:
декорации стоят,
актёров давно нет,
а свет — всё ещё светит.
Royal Enfield сбрасывает обороты сам,
будто чувствует:
здесь шум — это помеха.
Писатель едет медленно.
Не из уважения.
Из совпадения.
Он раньше пытался снимать.
Кадры. Свет. Композицию.
Но получалось — мёртво.
Словно он приходил туда,
где всё важное уже случилось —
и ему просто не оставили места в кадре.
Сегодня он даже не тянется за телефоном.
— Здесь не хочется снимать, — говорит он. —
Здесь и так всё снято. Без нас.
Байкер не спорит.
Слишком пыльно. Слишком точно.
— Или всё сняли, — говорит он,
— но забыли выключить камеру.
Говорят, в Юрьевце остался кадр.
Один.
Снят кем-то вроде Тарковского —
или кем-то, кто просто когда-то понял свет.
Этот кадр не вошёл никуда.
Ни в фильм,
ни в архив.
Он остался здесь. В воздухе.
Говорят, он появляется только если:
ты в шлеме,
стоишь,
и не хочешь ничего —
даже увидеть.
Если внутри — тихо.
Без амбиций.
Без намерений.
Иногда в отражении стекла вдруг проступаешь ты.
Не как есть.
Как мог бы быть.
Если бы не промолчал.
Если бы не уехал.
Если бы когда-то —
решился.
Писатель не снимает шлем.
Он просто стоит.
Не как зритель.
Как кадр.
Как стоп-кадр,
в который кто-то когда-то хотел что-то сказать —
но не стал.
— Он уже есть, — говорит Писатель.
— Только не я его вижу. Он — меня.
Байкер фыркнул:
— Это не кадр. Это перегрев.
— Возможно.
— Или дрон с распознаванием лиц.
— Был у нас один, — говорит Байкер.
— В кино снялся. На байке.
Красиво: пыль, солнце, скорость.
После съёмок мотоцикл продал.
— Говорит: «Я уже отснят. Дальше — ничего нового.»
Купил камеру.
Снимает теперь других.
Ждёт, когда кто-то скажет:
«Стоп. Снято.»
Писатель усмехается:
— Иногда «Стоп» — лучше газа.
— А иногда газ — лучше «Стопа», —
пожимает плечами Байкер.
Они молчат.
Кадр не требует реплик.
Писатель впервые не хочет фиксировать.
Не потому, что нечего.
Потому что всё — уже здесь.
Байкер не отходит.
Он просто рядом.
Без звука.
Без нужды что-то доказать.
— Этот город, — говорит он, —
даже не спрашивает, зачем ты приехал.
— Потому что он сам не уверен, что существует, —
отвечает Писатель.
— Или знает, что всё уже было. И хватит.
Они заводят мотор одновременно.
Медленно.
Как будто камера ещё работает.
Но уже не на них.
На выезде дорога дрожит,
словно кадр сам хочет сказать:
«Ты был. Этого — достаточно».
Юрьевец не машет.
И не держит.
Он просто остаётся.
Как стоп-кадр.
Не замеченный.
Но — не забытый.
Иногда кадр —
это не то, что ты снял.
А то, что однажды не снял —
и всё равно остался в нём.

КИНЕШМА
Ветер начался заранее.
Не напором, не шквалом —
а будто кто-то задал сопротивление,
и теперь — держит.
Небо висело низко.
Как потолок в доме, где не ты хозяин.
И всё вокруг — не громкое, не серое,
а как будто говорило:
«Хочешь проехать — будь тише».
Кинешма вытянулась вдоль берега,
ровно, как строчка без точки.
Ни резких поворотов,
ни резких слов.
Город, который вроде и говорит,
но только в одну тональность.
Royal Enfield держал курс.
Не боролся,
не побеждал.
Как человек, который знает:
если ветер встречный — значит, идёшь правильно.
Писатель ехал первым.
Молча.
Он не думал, что слышит песню.
Но вдруг —
в позвоночнике, в ключице,
в подъязычной тишине —
что-то зазвучало.
Не мотив.
Не слова.
А — звук, которого не искал.
Он не пытался описать.
Не фиксировал.
Он просто ехал.
Как будто услышал себя таким, каким был —
до слов.
Байкер плёлся за ним.
Шлем гудел, как кастрюля на конфорке.
Всё внутри сопротивлялось лирике.
— Это не песня, — сказал он. —
Это просто у тебя шлем неправильно сидит.
— Или ты опять чего-то не доделал.
Писатель не обернулся.
Но замедлился.
Байкер догнал.
И вдруг — запел.
Фальшиво.
Громко.
— Ты сни-и-сься мне… как будто шлем... играет в тенор…
Писатель сначала вздрогнул.
Потом засмеялся.
Сначала глазами. Потом — по-настоящему.
— Хоть кто-то поёт в этом шлеме, — сказал Байкер.
— А не шепчет смыслы.
И в этот момент между ними снова установилось то,
что всегда лучше любых разговоров —
ритм.
Когда один чувствует.
А второй — не мешает.
Говорят, раз в год Волга поёт.
Не водой. Не эхом.
А так,
что внутри тебя вспоминается голос.
Твой.
Старый.
Тот, который ты не узнавал,
но всегда знал.
Слышат не все.
Слышат те, кто едет против.
Не чтобы спорить.
Не чтобы доказать.
А потому что иначе — не доедешь.
— Был у нас один, — сказал Байкер позже, на заправке.
— Принципиальный.
Ветер всегда в лицо.
Говорил:
«Если дует в спину — значит, ты убегаешь».
— Внушительно, — кивнул Писатель.
— Особенно зимой.
Ездил в тулупе. Чтобы, значит, чувствовать.
Потом пересел на яхту.
Говорит:
«Теперь ветер — не экзамен,
а собеседник».
Ходит по воде.
Как умеет.
Писатель не формулировал.
Не тянулся к словам.
Он просто ехал.
Как будто каждый километр был ответом.
Не на вопрос,
а на что-то,
что давно не звучало.
Байкер ехал рядом.
Без шуток.
Без комментариев.
Просто был — в ритме.
Кинешма не прощалась.
Не говорила «приходи ещё».
Она просто растворилась в изгибах Волги.
Но Волга звучала ещё долго.
Не в ушах.
А глубже.
В руках.
В шлеме.
В моторе.
А потом —
стало тише.
И даже Байкер не сказал ничего.
Не всякий ветер против.
Иногда он просто рядом.
Чтобы ты вспомнил,
что умеешь держаться.

ШУЯ
Плитка звенела под шинами.
Не вибрацией — звоном.
Словно ты ехал по перевёрнутым колоколам,
где каждый камень — не мостовая, а купол,
и город не несёт тебя,
а слушает: чего ты стоишь.
Шуя не открывалась.
И не пряталась.
Она звучала.
Как человек, который стоит рядом
и молчит так,
что ты сам начинаешь перебирать в себе всё сказанное —
и ненужное отваливается.
Колокольня —
не здание,
а вертикальный слух.
Не храм —
диафрагма.
Royal Enfield дрожал чуть иначе.
Не от вибраций —
от совпадения.
— Звеним, — бросил Байкер.
Сухо.
— Кажется, этот город — аудиозапись.
Писатель молчал.
Он и сам чувствовал:
внутри — звон.
Не мысль. Не тревога.
Как будто кто-то ударил по тебе изнутри —
и теперь ты сам в резонансе.
Говорят, в Шуе есть колокол,
который звучит не по расписанию.
Не по праздникам.
Не по уставу.
Он ждёт не времени —
а сбоя.
Когда ты сбился.
Внутри.
Когда ты едешь —
но не туда.
Когда ты слушаешь музыку —
а внутри всё равно
что-то не совпадает.
И тогда — звон.
Не громкий. Не явный.
Он не ломает. Он напоминает.
Через наушники.
Поверх трека.
Не чтобы испугать.
А чтобы ты сказал себе:
«Да. Это во мне».
Писатель снял наушники.
Прямо на ходу.
Выдернул — и убрал.
Не театрально.
Просто — потому что больше не нужно.
Тишина не наступила.
Она вернулась.
Как человек, которого ты прогнал —
но он всё равно остался рядом.
Просто сел на скамейку
и больше ничего не сказал.
Байкер не обернулся.
Не прокомментировал.
Просто подъехал ближе.
И ехал рядом.
Не чтобы разделить.
А чтобы быть.
— Был у нас один, — сказал Байкер уже на остановке.
Курил. Ветер уносил дым сразу вверх.
— С армии пришёл — звенело.
В ухе. В виске. В запястьях.
Говорил — встроили сигнал.
Будильник на случай настоящей тревоги.
— Срабатывало? — спросил Писатель.
— По-своему.
Не на выстрелы.
На женщин с сумками.
На запах горячего хлеба.
На отражение, где ты —
но не уверен, что ты.
— И что делал?
— Садился.
Иногда под памятником.
Иногда у окна.
Иногда просто на тротуаре.
И говорил:
«Это у меня эстетическая тревога. Пройдёт».
Писатель не смеялся.
И не сочувствовал.
Он просто кивнул.
Как человек, который знает —
есть тревоги, которые не требуют объяснения.
Им достаточно признания.
Шуя не осталась позади.
Она не провожала.
Просто — осталась звучать.
Где-то в рёбрах.
В пальцах.
В области шеи, где обычно лежит страх.
Они ехали молча.
Не потому, что не было слов.
А потому что любое из них
могло снова нарушить настройку.
Royal Enfield шёл легко.
Как будто мотор тоже услышал.
И теперь — не шумит, а слушает.
На перекрёстке Писатель повернулся к Байкеру:
— Я не уверен, что это был звон.
— А я уверен, что это неважно, — ответил тот.
— Главное — ты не убежал.
Писатель кивнул.
И впервые почувствовал,
что звук, который зовёт,
не всегда требует ответа.
Иногда он просто говорит:
«Ты ещё жив.
Ты ещё слышишь.
Теперь — тише».
Когда звенит в голове —
не всегда нужно бежать.
Иногда — достаточно сесть рядом
и дождаться,
пока ты перестанешь звучать не в своей тональности.

СУЗДАЛЬ
Суздаль не появился.
Он не обозначился на табличке.
Он стал происходить.
Как тишина,
которая сначала кажется фоном,
а потом ты понимаешь —
это и есть главное.
Асфальт не сменился,
он просто перестал настаивать.
Колёса катились тише.
Не потому, что меньше скорость —
просто больше некуда торопиться.
Каменка сбоку —
не река.
Взгляд.
Скользит рядом,
не провожает, не встречает,
а просто знает: ты здесь.
— Мы что, уже приехали? — спросил Байкер.
— Нет, — сказал Писатель. — Просто дорога закончилась без финала.
Город не стелил ковров.
Не шевелился историей.
Он не ждал.
Но и не удивлялся.
Как друг, который давно не писал,
но всё равно помнит:
ты однажды обещал приехать.
Говорят, в одном храме на Каменке
есть окно.
Без стекла.
Без рамки.
Без объяснений.
И если в определённый день
ты окажешься внутри —
войдёт свет.
Не с небес.
А как будто из тебя.
Если рядом стоит мотоцикл —
в тени появляется дорога.
Невидимая.
Невымышленная.
Та, которая не случилась.
И если ты стоишь спокойно —
без вопросов, без нужды что-то понять —
ты видишь:
эта дорога была.
Просто прошла мимо.
Не потому, что ты свернул.
А потому что она не позвала.
Писатель стоял в этом луче.
Не всматриваясь.
Не греясь.
Он просто не мешал.
Свет — не награда.
Он не говорит «молодец».
Он просто возвращается,
если ты больше не заслоняешь.
Байкер остался в тени.
Не из протеста.
Не из привычки.
А потому, что тень — не исчезновение.
А способ видеть,
откуда приходит свет.
— Там, в луче, ты почти исчезаешь, —
сказал он,
когда уже стояли у стен.
— А я… люблю знать, где у меня контур.
— Был у нас один, — сказал он.
— Всю жизнь ловил солнце.
По будильнику на рассвет.
По тени на закат.
Однажды
сел в тень под старым мостом,
вынул сигару,
закурил
и сказал:
«Только в тени видно, кто загораживает свет».
С тех пор ездит тихо.
Без фар.
Без позы.
Говорит:
«Так меньше мешаешь другим увидеть».
Байкер сел первым.
Тихо.
Как садятся не из усталости,
а из согласия.
Писатель присел на подоконник.
Не потому, что хотел остаться.
А потому что было не к чему торопиться.
Они не говорили.
Не смотрели друг на друга.
Не фиксировали момент.
Просто сидели.
Один — в луче.
Второй — в краю света.
Не равные.
Не тени и свет.
А два голоса,
которые впервые — не спорят.
Суздаль не отпускал.
И не держал.
Он просто остался в них.
Как свет в комнате,
в которую ты вошёл —
и понял, что здесь можно быть,
даже если ты молчишь.
Они поехали тихо.
Мотор не шумел.
Он слушал.
Royal Enfield тронулся так,
как будто свет кивнул:
«Хорошо. Теперь — можно».
Окно осталось позади.
Свет — нет.
Он просто стал частью дороги.
Ты не привёз свет.
Ты просто приехал
в момент, когда он вернулся.

Начало формы
СУЗДАЛЬ. Клуб Путешественников
Утро не началось.
Оно просто было.
Без пауз, без вступления.
Как если бы кто-то давно поставил чайник —
и теперь просто налил. Молча.
Дверь клуба открылась без жеста.
Не пригласила.
Не удержала.
Просто чуть дрогнула —
и отпустила вглубь.
Внутри пахло деревом.
Не свежим — тёплым.
Словно полы здесь не мыли — а берегли.
Никаких вывесок.
Никаких финалов.
Просто комната.
Стол.
Кружка.
И окно, в котором улица выглядела — не как продолжение,
а как доказательство, что дорога всё ещё есть.
Писатель сел.
Не чтобы подумать.
Не чтобы завершить.
А потому что тело вдруг совпало со стулом.
И не нужно было поправлять позу.
Royal Enfield стоял снаружи.
Как будто всегда там стоял.
Как будто знал:
«Ты дойдёшь. Не сразу. Но дойдёшь».
Он не смотрел.
Он ждал — так, как ждут те, кто не требует.
Байкер не вошёл.
Но и не ушёл.
Он был здесь — в ритме воздуха.
В лёгкой вибрации где-то под рёбрами.
Как часть тебя,
которая больше не требует доказательств.
Он не исчез.
Он просто не мешал.
Писатель смотрел в окно.
Долго.
Как смотрят не на вид,
а на то, что не успели понять раньше.
Потом сказал:
— Спасибо.
Не за путь.
А за то, что не спорил.
Никто не ответил.
И не надо.
Некоторые вещи звучат — не в ответ,
а чтобы всё остальное стало тише.
Один сидел.
В кресле.
В себе.
В утре, которое уже не требует продолжения.
Второй — был где-то рядом.
Не напротив,
А внутри взгляда,
в котором уже не надо делить —
где ты, а где не ты.
Они оба — были.
Без фразы.
Без морали.
Без попытки объяснить, зачем всё это было.
Иногда ты доезжаешь —
не чтобы остаться,
и не чтобы исчезнуть,
а чтобы вернуться в себя —
и не найти там пустоту.
А тишину.
Которая больше не кажется угрозой.
И кружку на столе.
Которая всё ещё тёплая.
МАКСИМ ПРИВЕЗЕНЦЕВ #писательизмосквы


